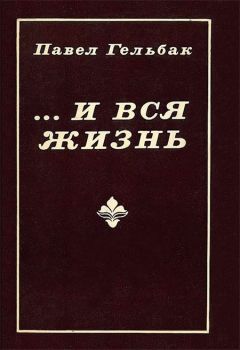Иван Корнилов - В бесконечном ожидании [Повести. Рассказы]
Мимо нашей повозки неторопливо прошагала девушка, в которой с трудом узнал я Клавдю Вьюркову, нашу соседку, так повзрослела она за год. Платье на ней было такое яркое, каких и в городе-то увидишь нечасто.
— Чего ради выщелкнулась? — спросила ее Вера Матвеевна. — По твоему календарю нынче, как видно, не четверг, а сам троицын день?
— А вы, теть Вер, не переживайте! Платье-то мое, не ваше, — ответила Клавдя резко, а глаза ее между тем улыбались.
Ужинали мы на веранде, где все — и пол и скамейки — вымыты были только что; в открытую настежь дверь наплывал волнами прохладный снаружи воздух.
Вера Матвеевна вина в рот не брала, но по случаю моего приезда чуть-чуть пригубила и даже сказала несколько сердечных задушевных слов; потом она подперла щеку ладонью и любовалась на наш с Серегой аппетит, слушала наш разговор, и глаза ее то лучились теплой улыбкой, то становились задумчивы.
Уже собирались спать, когда я напомнил Сереге, не забыл ли он, что нам уже по четверти века и что в столь серьезные лета пора бы уже и погулять на чьей-нибудь свадьбе — на его или на моей. Я уже приготовился услышать ходовую нашу отговорочку: «Невеста в зыбке качается». Но в этот раз Серега меня приятно удивил.
— А ты знаешь, невеста, кажется, подросла… Но через минуту он свел брови и добавил:
— Невеста есть, но и соперник — тоже… Хамистый тип, нахал. Надумал я объясниться с ним по-настоящему. Завтра едем в Безлесное, дорогой и объяснимся.
И по тому, как жестко сказал это Серега, я легко догадался, что соперник его был несомненно кто-то из Рябковых, До чего же, оказывается, живучи людские заблуждения, какое прочное свивают они в человеческих душах гнездо!.. Еще в первый свой приезд я записал историю хутора Орловки. Перед коллективизацией, в двадцать шестом году, с густой людьми Орловщины приехали переселенцы — две родовые ветки: Горячевы и Рябковы. У братьев Рябковых лошади оказались поупитанней, приехали они на день раньше и захватили под свои усадьбы лучшие места — плодородную падину. А Горячевым достался сухменный косогор, изрытый сурчинами. И тогда случилась между приезжими неслыханной лютости кулачная свалка. Уж сколько с тех пор талой и дождевой воды по здешним долам отшумело, Рябковы переженили своих сынов на дочерях Горячевых, давно уже весь хутор кумовья да сваты, однако все еще помнится та стародавняя история, и при случае противники не прочь друг другу вставить палки в колеса. Если назначат бригадиром кого-нибудь из Горячевых, Рябковы в кошки-дыбошки, и доходило до того даже, что по неделе не выходили па работу. И напротив того, окажись у власти Рябковы — бунтарят Горячевы. Хутором Чертовым надо было бы назвать это место, но никак не Орловкой. Приглашали в бригадиры сторонних людей, да что-то и они плохо уживались в этом осином гнезде. Не знаю уж за какие особые таланты Серега, отпрыск Горячевых, уже четвертый год держался в бригадирах и даже преуспевал. Однако ж и его голос сорвался, когда он заговорил о сопернике. «Дорогой и объяснимся».
Никто на свете не скажет теперь, каким было их объяснение. И сами соперники уже не расскажут об этом никогда и никому: оба — и шофер Федор Рябков, и Серега — разбились насмерть.
Узнал я об этом утром — да как на грех в беспечную, в какую-то ребячливо-озорную свою минуту… Умылся под гремучим умывальником в проулке, стою растираюсь полотенцем, блаженствую. А тут откуда ни возьмись — Клавдя Вьюркова…
— Эй, Костя, ты отчего это делаешь вид, будто не узнаешь своих соседей? — окликнула она меня со своего двора. На пятачке земли, разметенном веником, Клавдя сеяла из совка зерно, а из-под колод, из-под плетней и сараев к ней торопливо сбегались куры. Нынче Клавдя была не в белом, но в голубом уже платье.
Смотрю на нее во все глаза и слова сказать не могу — такое во мне удивление: ну разве мыслимо человеку так перемениться всего за одну зиму? Представьте: еще прошлым летом ходил по хутору угловатый длинноногий лосенок, с которым заговорить о чем-нибудь серьезном было бы смешно и нелепо. А сейчас передо мною была девушка — в полном расцвете. Да уж не о ней ли сказал Серега: «А ты знаешь, невеста, кажется, подросла»… В общем, стою так, размышляю, а она:
— Может, ты вправду забыл меня? Так я напомню, — а сама не перестает улыбаться. — Кто тебе на Быков пруд самую короткую тропинку показывал, а? Не я ли? А от Нюры-почтарихи кто три раза приносил тебе письма? Кого ты за то угощал шоколадными конфетами и говорил, что на другое лето привезешь, мол, самых душистых духов? Помнишь? Нет, ты помнишь, помнишь? Или ты смеялся надо мной, шутил?
Надо же: она помнит все, решительно все!..
Понимая, что отделаться какой-то невинной шуткой было б теперь смешно и нелепо, я собрался было сказать Клавде что-то посерьезнее, но тут позади себя услышал шорох шагов. Оглядываюсь и вижу — это идет наша Вера Матвеевна. Но господи боже мой, что же это? — за какие-то несколько минут я, кажется, делаю еще одно открытие: Вера Матвеевна-то — уже старуха… Да-да, она не идет, но ковыляет, еле волочит за собой ноги. До крыльца так и не дотянула, присела на завалинку и, переведя дух, вымолвила всего лишь слово: «Везут».
В ее голосе сквознуло что-то такое, отчего я побоялся спрашивать, кого это или что там везут.
— Федьку Рябкова и нашего… В Колдовом долу, на плотнике опрокинулись.
В хутор тем временем медленно въезжал трактор, волоча за собой исковерканный грузовик; за трактором пестрела толпа, с каждой минутой разраставшаяся, и уже слышны были плачи и причитания женщин. Серега — неживой?.. Нет, это было выше моих сил.
Меж полями убегал к горизонту ковыльный межник. Нечетко сознавая куда и зачем, я ударился этим межником. Встречный ветер мешал дышать, трава путалась под ногами, но я бежал. Не помню уж где и для чего я свернул на клин бросовой земли с редким полынком и скоро увидел себя на бригадном току, совершенно безлюдном в эту неуборочную пору. Я забрался на крышу полевой будки, сел и осмотрелся. Ах, какая красота была в природе! Кругом шумела зелень хлебов. Над головой, ошпаренные солнцем, белыми лебедиными стаями неслись облака; в прогалах меж ними открывалась невыразимая синева неба, с которого падали наземь то солнечные косяки, то бегущие от облаков тени, и были минуты, когда мне казалось, будто все эти зеленые поля и долы тоже бегут-торопятся — только не в ту сторону, куда облака, а в обратную.
Ах, какая была кругом красота! Но я знал, что сегодня, в этой вот яркой прекрасной природе, свершилась ужасная несправедливость, и стал равнодушен ко всей этой красоте. Больше того — сейчас я был зол на эти слишком уж яркие зеленя, на эту бездонную небесную синь, а в особенности на эти пышные царственные облака. Самой по себе красоты в природе нет. Сама по себе красота — не красота. Украшение земли — ее люди, а люди смертны. Так стоит ли жить, если не сегодня, так завтра и твоя тонкая ниточка, называемая странным словом «жизнь», тоже оборвется, да к тому же еще и как-нибудь глупо?
Мимо тока ехали старик со старухой; они остановили лошадь и что-то чересчур уж настойчиво стали звать меня к себе в телегу, на свежий хворост, и никак не хотели трогаться, пока я не слез со своей будки.
2Землисто-сер лицом, в белой отутюженной рубахе, Серега лежал на скамейке в переднем углу и был так непохож на себя, что я, наивец, подумал с надеждой: может, это не он? Но чудес не бывает.
Пламя лампадки — малюсенькое, с ноготок — стояло ровненько, без качков, без шелыхания, казалось, что и оно не живое. Раскладушку вынес я во двор, но и там уснуть не уснул. Возле избы Рябковых, чей Федор разбился, слышались допозна причитания.
К утру, на заре пришла ко мне Вера Матвеевна — со скамеечкой, на которой подсаживается она под корову, доить. И опять мне бросилось в глаза, что милая наша Матвеевна уже старая-старая. Она и передвигалась-то ощупкой, будто слепая. Скамеечку опустила у моего изголовья, села и стала глядеть на зарю.
— Хорошие люди живут недолго…
Что тут скажешь? Я молчал.
— Оставайся заместо него бригадиром, а?
Я посмотрел на Веру Матвеевну внимательно: уж не тронулась ли с горя рассудком?
— К земле прирастешь, — продолжала она свое. — Все тебя в хуторе знают, все тебя любят. Молодой, вином не избалован. Лучшего бригадира и желать нечего.
Слава богу, ум моей хозяюшки не помутился. Это горе заставляет ее просить о невозможном. Приняв мое молчание за добрый знак, Вера Матвеевна чуть заметно оживилась.
— А что, Костик? Работа почетная…
И в голосе — надежда.
— Нет, Вера Матвеевна, что вы?
— Уедешь. Я так и знала… А я тут теперь для кого?
И опять мне сказать было нечего.
— А зябко нынче, — потерла рукой об руку, поднялась и поковыляла в избу.
«Да она сляжет, и сляжет скоро», — тотчас же пронеслось у меня в голове, и я готов был броситься вслед за Верой Матвеевной и просить у нее прощения за свой отказ и уверять ее, что утром же пойду к председателю колхоза и — пусть он думает обо мне что хочет! — напрошусь в бригадиры сам… Но в последний момент я удержался и ничего Вере Матвеевне не сказал.